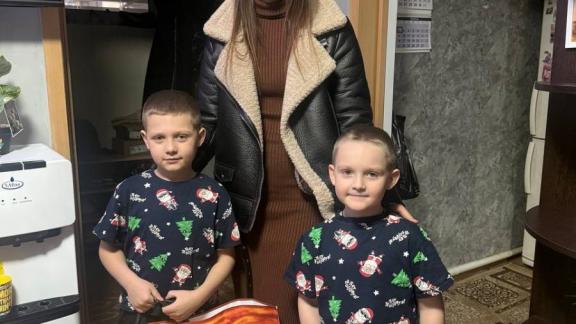Ставрополец рассказал о военном и послевоенном детстве
Август 1941 года. Эвакуация
...Я проснулся от грохота и перестука колес в раскачивающемся из стороны в сторону вагоне, который, казалось, не удержится и свалится на бок, проснулся и с удивлением увидел находящихся рядом маму, свою старшую восьмилетнюю сестру, родную и двоюродную бабушек. Что случилось, почему мы вдруг оказались в переполненном людьми вагоне, а не у себя в квартире? Почему не отвели меня в детский сад, как это происходило каждое утро? Куда мы едем? Наверное, эти недоуменные вопросы промелькнули тогда в моем сознании.
Взрослые объяснили, что идет война, что мы едем в поезде, спасаясь от приближающихся к Херсону фашистов, едем в эвакуацию. Что это означает, к каким последствиям ведет, мне тогда было не понять. И это не удивительно, ведь мне исполнилось всего четыре года через 18 дней после того, как началась война. От того безмятежного довоенного детства в памяти осталась только одна картинка, словно какое-то видение: большая, залитая солнечным светом комната в детском саду и маленькие детские ручные часики, подаренные родителями, самая дорогая для меня игрушка, единственная, которая уехала со мной в эвакуацию.
Это была первая в моей жизни поездка в поезде, и мне интересно было наблюдать за мелькающими за окнами вагона селениями, лесами и полями. Но особый интерес вызывал сердито пыхтящий, выдыхающий дым и огненные искры паровоз, который назывался странным словом «овечка». И страшно хотелось есть. Мама как-то умудрилась сварить манную кашу, такой вкусной каши я никогда не ел в своей жизни. А поев, до блеска вылизал тарелку языком, поразив бабушку, которая воскликнула: «И мыть не надо». Манная каша и в первые послевоенные полуголодные годы была моей любимой едой, и я удивлялся своим сыновьям и внукам, которые в детстве терпеть ее не могли. Тогда же в поезде, увозящем нас от войны, я не испытывал большего наслаждения, чем от приготовленной в вагоне манной каши.
И вдруг мы услышали наводящий ужас рев самолетов, разрывы бомб, стрельбу. Поднялась паника. Мама и бабушка свалили меня и сестру на пол, накрыли своими телами, плача и выкрикивая проклятья фашистам. Несмотря на бомбежку, поезд продолжал свое движение. Вспоминая об этом, я думаю, что, возможно, благодаря этому, благодаря смелости машиниста поезд благополучно миновал подвергнувшуюся бомбардировке территорию и никто из нас не пострадал. А скорее всего, судя по рассказам взрослых, воздушную атаку отбили наши летчики и артиллеристы, выставленные для охраны эвакуируемых составов.
Был еще один налет фашистских стервятников, от которого мы спаслись, выскочив из вагона и переждав бомбежку под насыпью, уткнувшись в поросшую травой землю. Пережитое иногда всплывало в моем сознании уже в послевоенные годы, но как-то смутно, будто страшный сон. После этой бомбежки поезд наш ушел из опасной зоны и беспрепятственно двигался назначенным маршрутом, навсегда увозя нас с родной Херсонщины, с Украины в составе большой Родины - Советского Союза.
Вот в каких сложных и опасных условиях проводилась эвакуация. А ведь эшелоны с грузами и людьми из прифронтовых территорий, которым угрожала оккупация, шли в тыл страны один за другим, десятки и сотни, день и ночь. Проделана была огромная организационная, хозяйственная и транспортная работа. О ее масштабах можно судить по тому, что в Херсоне в 1941 году работали 32 промышленных предприятия, среди них такие крупные, как судостроительный, судоремонтный, машиностроительный, нефтеперерабатывающий заводы. Все они были эвакуированы с оборудованием, сырьем, ресурсами и частью работавшего на них персонала. Всего же, по данным энциклопедии «Великая Отечественная война», с территории Украины с конца июня 1941 по январь 1942 года было перемещено 550 крупных промышленных предприятий и свыше 3,5 миллиона человек.
В эвакуации участвовал мой дедушка, коммунист с 1925 года, так называемого Ленинского призыва, работавший механиком-наставником Херсонского речного порта. Вместе с коллективом судоремонтного завода он эвакуировался в Ростов-на-Дону, работал слесарем на заводе «Красный Дон». В связи с эвакуацией этого завода переехал в город Калач-на-Дону, где работал мастером судоремонтных мастерских. В январе 1942 года был отправлен на жительство в Казахстан в соответствии с постановлением Правительства СССР о выселении граждан немецкой национальности в восточные районы страны.
В число подлежащих эвакуации в соответствии с решением городских властей попали и мои родители-коммунисты. Отец был известным в городе и области журналистом. В течение восьми предвоенных лет работал корреспондентом и заведующим отделом сельского хозяйства Херсонской и Николаевской областных газет «Наднепрянская правда» и «Южная правда». Мама работала библиотекарем.
Приказ об их увольнении был подписан 7 августа 1941 года, а на следующий день они были назначены сотрудниками Херсонского дома испанских детей и им были вручены удостоверения на эвакуацию вместе с семьями. Документ об эвакуации, выданный отцу, сохранился в нашем семейном архиве. В Херсоне проживало несколько сот детей, чьи родители погибли в смертельной схватке с режимом Франко в Испании. Их эвакуация была событием, относящимся к большой политике, ведь даже представить себе страшно, что случилось бы, если бы детский дом был захвачен фашистами. И родители гордились тем, что они участвовали в выполнении такой ответственной задачи.
На Ставрополье
После завершения эвакуации детского дома на территорию Краснодарского края наша семья с октября 1941 по август 1942 года находилась в эвакуации в Ставропольском крае, называвшемся тогда Орджоникидзевским. По решению крайкома ВКП(б), а в то время решения партийных органов были обязательными для коммунистов, отец работал литературным сотрудником редакции газеты «Красный кавалерист» Северо-Кавказского военного округа, начальником клуба эвакогоспиталя № 2172 в городе Пятигорске, а мама - начальником клуба госпиталя № 2038 станции Машук. В связи с созданием политотделов в сельском хозяйстве 9 марта 1942 года отец был вызван в Ворошиловск (так тогда назывался Ставрополь) на заседание крайкома ВКП(б), первым секретарем которого был в то время Михаил Андреевич Суслов, и назначен заместителем начальника политотдела Каменнобродского зерносовхоза Егорлыкского, ныне Изобильненского района.
От Каменнобродской сохранилось у меня одно курьезное воспоминание. Я играл у водокачки, когда на меня набросилась какая-то страшная птица, которую я, городской мальчишка, увидел впервые в жизни. На самом деле это был обыкновенный злой индюк, которому я почему-то не понравился и который, надуваясь и сердито, угрожающе шипя, больно кусал меня за ноги. Защищаясь, я схватил камень, бросил его в нападавшего на меня обидчика и совершенно неожиданно попал ему в голову. Индюк упал, как подкошенный. Посчитав, что убил бедную птицу, я расплакался и побежал домой, испугавшись, что меня накажут хозяева. Каково же было мое удивление, когда, оглянувшись, я увидел, что воинственный индюк поднялся, зашипел и набросился уже на другого прохожего…
В Каменнобродском зерносовхозе отец проработал всего четыре месяца, выполняя возложенные на политотделы задачи по налаживанию сельхозпроизводства в условиях войны, обеспечению армии и населения продовольствием и сырьем. В конце июля 1942 года немецкие войска вторглись на территорию края. 31 июля маме была выдана справка, подписанная председателем Егорлыкского райисполкома Коваленко и секретарем райисполкома Шаралиди, на эвакуацию вместе с семьей из семи человек в Алтайский край, город Барнаул. Отец был вписан в нее уже после оформления дополнительно. Но 1 августа, за два дня до вступления фашистов в Ставрополь, его призвали в армию, а наша семья вместе с группой сотрудников Орджоникидзевского треста зерновых совхозов выехала в Курский район, в совхоз «Балтийский рабочий». Однако вскоре война докатилась и в эти отдаленные и глухие места, в которых развернулись тяжелые сражения. Навсегда врезалось в память, как мы эвакуировались по раскаленной от августовской жары степи, спасаясь от наступающих фашистских войск. Стрельба, грохот канонады приближались к нам, как раскаты грома в грозу.
Ехали на двух совхозных автомашинах: трехтонном ЗИСе и полуторке, заполненных до отказа эвакуируемыми и их имуществом. На правах младшего я сидел в кабине трехтонки и увидел идущую по дороге группу красноармейцев с винтовками на плечах и скатками шинелей за спинами. Командир приказал остановить машины, объявил, что по законам военного времени они переходят в распоряжение воинской части, которой он командует, и потребовал высадить находящихся в них людей и выгрузить грузы. Руководители совхозного треста понимали, что оставить несколько десятков эвакуируемых в степи, вдали от населенных пунктов, на пути движения наступающих немецких войск означало обречь нас на верную смерть. И они отказались выполнить приказ. Поднялась невообразимая паника. Истошно забились в истерике женщины и дети. И тогда командир изменил свое решение. По его команде солдаты взобрались в кузова, на подножки и крыши машин. Вот таким образом мы благополучно добрались до Моздока.
30 апреля 1995 года, за несколько дней до празднования 50-летия Победы, мне, корреспонденту газеты «Ставропольская правда», довелось присутствовать на Дне поминовения павших защитников Родины. У обелиска участникам Великой Отечественной войны на хуторе Дыдымкин Курского района Ставропольского края руководители субъектов Российской Федерации на Северном Кавказе, общественные и религиозные деятели отдали дань памяти и уважения героям.
Знаменательно, что такое масштабное событие произошло на земле Курского района, которая была местом героических сражений летом 1942 года. Наши воины стояли здесь насмерть, многие из них навечно погребены в фронтовых окопах и не были похоронены с теми почестями, которые они заслужили. Сотни и сотни героев остались безымянными и до сих пор считаются без вести пропавшими. Тяжелые кровопролитные бои на территории Курского района способствовали осуществлению планов советского командования по концентрации войск и проведению в сентябре 1942 года крупной Моздокско-Малгобекской оборонительной операции, которая сыграла существенную роль в срыве планов фашистов по захвату грозненской и бакинской нефти. Дальнейшее продвижение врага было остановлено.
Стоя у братской могилы, среди участников многолюдного митинга и траурного молебна, проведенного митрополитом Ставропольским и Владикавказским Гедеоном, представителями мусульманского, буддийского, иудейского духовенства, я поклонился героям, которые летом 1942 года защитили меня и моих близких от фашистских варваров…
(Продолжение следует).
8 июня 2024 года