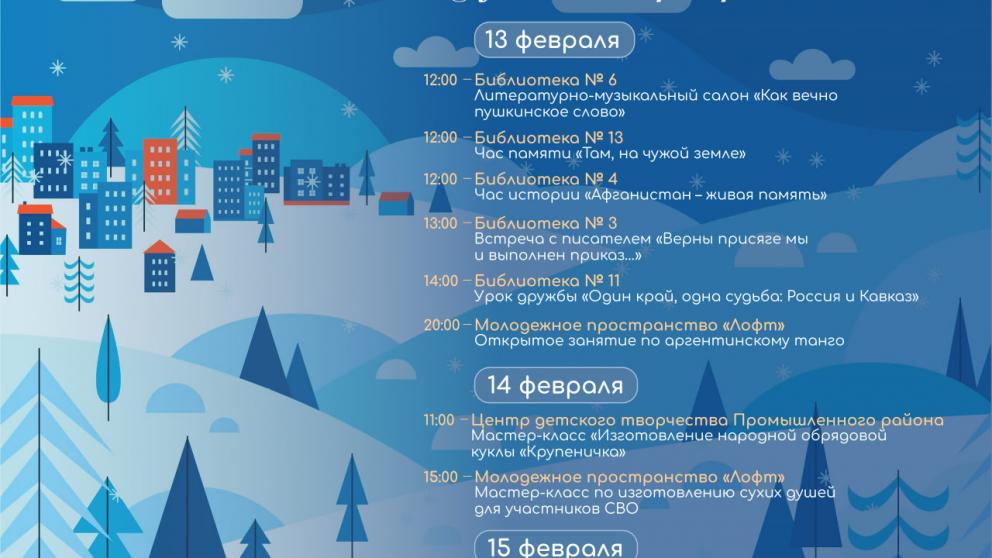Почему ставропольского писателя Илью Сургучёва не печатали на родине?
Подтверждением тому книга рассказов и очерков И. Сургучёва «Европейские силуэты», недавно выпущенная Санкт-Петербургским отделением Союза писателей России в серии «Неизвестный XX век». Составители сборника не случайно обратились к фигуре Сургучёва, ведь по справедливости это имя включалось современниками в «великолепную семерку» эмигрантской литературы. «Их было семь, – отмечал писатель Е. Яконовский. - Они составляли «цех» - Бунин, Зайцев, Куприн, Мережковский, Ремизов, Сургучёв, Шмелёв».
Отчего же такое пренебрежение талантом, почему И. Сургучёв так долго не публиковался на родине? – задается вопросом редактор и автор предисловия к изданию М. Талалай. По его мнению, сыграло свою роль шельмование писателя в конце 1940-х годов, когда в послевоенной Франции, не отличавшейся особым геройством в борьбе с Германией, стали с энтузиазмом искать «козлов отпущения». Имело значение и разделение в русской диаспоре: эмигранты, сумевшие уехать в Америку, принялись ревностно разоблачать «пособников нацистов» среди тех, кто остался в оккупированной Европе. Однако даже Парижский суд, рассматривавший дело Сургучёва, заведенное по доносу, не нашел в его журналистской деятельности при оккупационных властях ничего предосудительного.
Обвинения в коллаборационизме тем не менее кочевали из одной публикации в другую, формируя общественное мнение, и лишь в последние годы появились взвешенные исследования. В связи с этим интересно письмо И. Сургучёва от 14 ноября 1944 года главному редактору газеты «Русский патриот», выходившей в Париже. На ее страницах писатель обвинялся в гитлеровской и антисоветской пропаганде. Он заявляет, «что сие не соответствует действительности: 25 лет литературной в эмиграции работы я ни ЕДИНЫМ СЛОВОМ не обмолвился о Гитлере и гитлеризме по той простой причине, что я ничего не понимаю в политике; за 25 этих же лет я едва ли написал 25 СТРОК о большевизме по этой же причине». Фотокопия этого письма, недавно обнаруженного в архиве Колумбийского университета (США), впервые публикуется в новом издании.
Для подбора рассказов, очерков и фельетонов эмигрантского периода составители пригласили профессора Ставропольского пединститута А. Фокина, которого по праву называют ведущим отечественным специалистом по творчеству И. Сургучёва. Наряду с А. Власенко профессор А. Фокин значится составителем сборника, а также автором обстоятельного послесловия к нему.
Отдельным блоком идут воспоминания современников о писателе, рецензии на его произведения. Книга снабжена библиографией публикаций И. Сургучёва в эмиграции и основными датами его жизни и творчества.
Собрав под одной обложкой рассказы Сургучёва-путешественника, издатели, по сути, осуществили его мечту. География сургучевских вояжей по Европе обширна. Это прежде всего дореволюционные безмятежные поездки в любимую Италию. Писатель признавался в желании перед смертью прожить «годик в Риме». Кстати, сборник открывает очерк «Рим». Далее - Стамбул, Прага, Париж, экспедиции в Испанию, Францию, Германию…
Мастерски представленные картины Европы не скрывают главного: в действительности писал Илья Дмитриевич о России, о русском человеке. Яркой иллюстрацией может служить очерк «Жертва вечерняя». Автор вспоминает, как до революции с поэтом А. Лозина-Лозинским они оказались в Мессине на Сицилии. Встретившийся молодой человек, узнав, что они русские, бросился жать им руки, несмотря на возражения, заплатил за них в кафе и ресторане. Оказалось, он был ребенком, когда в 1881 году случилось знаменитое землетрясение, и русские матросы вытащили его из-под развалин. И с тех пор, когда он видит русского, ему кажется, что встретил брата, самого милого, самого дорогого. Потом долго еще Сургучёв получал открытки от этого молодого итальянца.
И всюду так, и всегда, начиная с монгольского ига, Россия кого-то спасала, устраивая чужое довольство и счастье.
Вспоминая Первую мировую войну, писатель говорит о верности России союзническому долгу. Везде, где была малейшая опасность, она, по мнению союзников, должна была прикрывать их. И с большой самоотверженностью и самопожертвованием Россия делала это, «загородив их своими костьми от немцев». Союзники знают об этом, но времена меняются, и британский премьер-министр Ллойд Джордж заявил: «Нам не нужна Великая Россия!». Не правда ли, история, имеющая продолжение и в наши дни?
Заканчивается очерк пронзительными словами: «О, великая и бестолковая всеобщая избавительница! И прошеная и непрошеная… О, великая, всеобщая, всеми осмеянная печальница! О, жертва вечерняя! Пока ты существуешь, народы Европы могут спать спокойно. Такова твоя судьба».
В очерке «Горький и дьявол» автор словно подводит итог своим взаимоотношениям с М. Горьким и как бы отрекается от своего кумира, испытывая тем не менее по отношению к нему некое священное уважение, некий мистический страх. Дружба с Максимом Горьким занимает целую главу в жизни И. Сургучёва. Их заочное знакомство состоялось в 1910 году, когда начинающий писатель обратился к уже маститому с просьбой оценить подборку его рассказов. Вскоре не без участия Горького вышел первый сборник Сургучёва. Ознакомившись с рукописью повести «Губернатор», написанной, несомненно, под влиянием горьковского «Матвея Кожемякина», Алексей Максимович дал ей высокую оценку: «Мне кажется, Вы написали весьма значительную вещь, и несомненно, что Вы большой поэт, дай Вам Боже сил, здоровья и желаний! Еще раз скажу – человечно написано, мастерски мягко, вдумчиво…».
После личного знакомства Горький не раз приглашал Сургучёва к себе на Капри в Италию. Переписка, периодические встречи друзей продолжались до 1917 года. Был и период охлаждения по ряду причин. В эмиграции, несмотря на сформировавшееся там «осудительное» мнение о Горьком, Илья Дмитриевич писал: «Я считаю его одним из лучших людей, которых я знаю: он был добр, снисходителен к людям, необыкновенно умен, легко прощал и забывал обиды, безумно любил русскую литературу, поощрял молодых начинающих писателей, раздавал деньги, когда они у него были, направо и налево и часто сам сидел без гроша».
В очерке «Горький и дьявол» писатель вспоминает эпизод, произошедший на Капри. Сургучёв человек не только религиозный, но в период эмиграции и весьма суеверный, не без внутреннего содрогания рассказывает, как Алексей Максимович продемонстрировал благоговеющему перед ним молодому литератору хранимое с юности изображение дьявола. «Наконец дьявол - в моих руках, - пишет Сургучёв, - и я вижу, что человек, писавший его, был человеком талантливым. Что-то было в нем от черта из «Ночи под Рождество», но было что-то и другое, и это «что» трудно себе сразу уяснить. Словно в нем была ртуть, и при повороте света он, казалось, то шевелился, то улыбался, то прищуривал глаз. Он с какой-то жадностью, через мои глаза, впивался в мой мозг… и я чувствовал, что тут без святой воды не обойтись…».
Автору представляется, что Горький однажды заключил договор с дьяволом: «И ему, среднему, в общем, писателю, был дан успех, которого не знали при жизни своей ни Пушкин, ни Гоголь, ни Лев Толстой, ни Достоевский. У него было все: и слава, и деньги, и женская лукавая любовь». Но заканчивается рассказ неожиданно: «Путем наваждения Горький твердой поступью шел к чаше с цикутой, которую приготовил ему опытный аптекарь Ягода». Однажды Сургучёв увидел портрет начальника ОГПУ Ягоды – он показался ему «как две капли воды похожим на дьявола, пророчески написанного талантливым богомазом». Писатель явно оказался под влиянием легенд вокруг смерти Горького, бытовавших не только в эмиграции, но и в советском обществе вплоть до последнего времени, когда в работах горьковедов появились документы об истинных причинах кончины писателя.
…В дружеских беседах И. Сургучёв признавался, что для него на земле существует три сладчайших занятия: сцена, газета и коллекционерство. Драматургию он всегда считал «обетованной землей». С журналистской деятельностью его связывали стремление быть в гуще событий, поиск новых сюжетов и тем для литературного творчества, возможность оттачивать стилистическое мастерство. Коллекционерство же понималось им как возможность постичь человека в его историческом и повседневном бытии.
Коллекционерством еще в юности писателя заразил отец Дмитрий Васильевич. В базарные дни (понедельник и пятница) в Ставрополе они шли в миллионный ряд, так тогда называли барахолку. Отец рассматривал выцветшие гравюры, книги, старые часы, чернильницы. И передавал сыну науку «читать вещь», постигать ее биографию, отыскивать в ней душу. Эта наука в дальнейшем сыграла свою роль в формировании особого, ни на кого не похожего стиля литературного таланта писателя.
Не оставил Сургучёв страсти к коллекционированию и в эмиграции. Многие современники отмечали, что он скупал антиквариат, дорожа каждой малой вещью, хоть отдаленно напоминавшей о безвозвратно утерянном отчем доме. Случай о посещении блошиного рынка (барахолка в Париже) описан в рассказе «Акварели Коклена». Бенуа-Констан Коклен был знаменитым французским актером XIX века. Илья Дмитриевич интересовался знаменитостью, хоть никогда не видел его. Читал, что он был на редкость талантливым, на редкость некрасивым, но и чванливым, капризным. Писатель собрал несколько вещей, связанных с Кокленом.
И вот, очередной раз посетив рынок, Сургучёв купил закопченную раму с какими-то картинками и надписью: «Коклен-Старший в ролях, сыгранных в Комеди Франсез». Какой восторг охватил коллекционера, когда он протер раму и вынул стекло! Перед ним предстали маленькие акварели, изображавшие актера в тринадцати ролях. Целый ряд лиц, характеров, поз, мизансцен, костюмов. А когда, взяв лупу, начал читать подписи, то ахнул: Ренуар, Эдуард Детайля, Жан Беро, Люи Ленуар, Фриан, Дюаза. Все, что так или иначе блестело или блеснуло во французском искусстве последней четверти девятнадцатого века!
В произведениях И. Сургучёва нашла отражение его любовь к животным. Маленьким шедевром в 1927 году назвал К. Зайцев рассказ «Лето» за упоительно-радостную поэзию обыденной жизни, чудесное описание «милой и ласковой, притворно-враждебной собачьей возни – одной из самых очаровательных игр на земле». Этот прелестный бесфабульный рассказ-сценку с разными чувствами, но с одинаковым наслаждением прочтут и дети, и взрослые. Как поэтичен заключительный аккорд тоски по родине: «По небу плыли облака, несшие влагу от французских рек для урожаев, быть может, других нездешних полей. Сообразив их путь и мысленно вычертив направление, я понял, что это могут быть урожаи моей страны… Дай вам Бог!».
Илья Дмитриевич особую слабость питал к кошкам. Парижане удивлялись, что во время гитлеровских бомбардировок этот странный русский спускался в бомбоубежище, прихватив не что-то ценное, а котов. Сургучёв с удовольствием описывал кошачьи повадки еще в начале своей литературной деятельности в Ставрополе. По очеркам в газете «Северный Кавказ» о сургучевском коте Лапкине-Бабкине знала вся губерния.
Восхищается этими животными писатель и в рассказе «Мой кот». Читаем: «Магомет писал Коран. На поле его халата заснул кот. Пришли ученики, и нужно было куда-то уходить. Тогда Магомет спросил ножницы и отрезал тот угол халата, на котором спал кот. (Чтобы не потревожить! - Ред.) Теперь мне понятно это движение души». Автор отмечает, что недаром древние египтяне, тончайшие психологи всех времен, почитали кота божеством.
Описывая своего кота Мимина, Сургучёв уверен, например, что он знает, когда у вас неспокойно на душе, когда пришло плохое письмо, и начинает смешить и развлекать…
Представляя книгу нашего писателя-земляка, всего не охватишь, поэтому рекомендую ее читателям. «Дабы узнать о мировоззрении Сургучёва, о его лирическом и трепетном патриотизме, о его боли за гибель российского традиционного общества, о его вере в духовные силы соотечественников, в конце концов, о его могучем даровании», - пишут создатели сборника.
27 апреля 2018 года