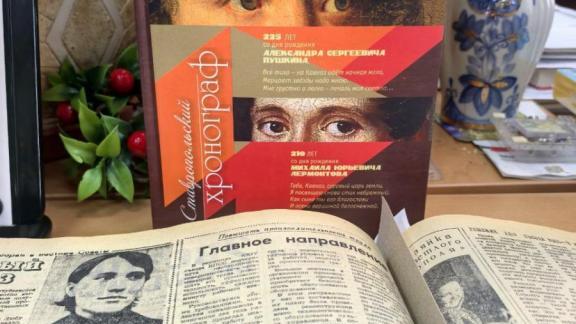Михаил Бегер: Я – последний поэт России!
Когда-то, в конце 70-х, уже всеизвестный Евтушенко провозгласил: «Поэт в России больше, чем поэт». Сказал и будто сглазил – с тех самых пор незаметно и незримо, но поэтический бум в стране словно бы пошел на убыль. Что-то в глубинах общественного сознания нарастало и происходило. Менялись ценности. Что было дальше, мы знаем: материальное живо прибрало к своим рукам идеальное. Но формула Евтушенко, будучи без преувеличения гениальной, не только сохранила старый, но обрела и новый смысл. Поэт и сегодня больше, чем поэт, если в своей искренности способен заменить целый штат политологов, депутатов, историков. Иными словами, бесстрашие и искренность превращают поэта и в ворожею, и в прорицателя, и в заклинателя, имеющего право не только предварять, но даже и определять политику. Об этом, кстати, столетие назад говорил самый парадоксальный из русских исследователей литературы Василий Розанов.
Сегодня всю правду о нашей жизни первыми сказали провинциальные поэты, и это, если хотите, - культурное чудо. Они опередили время, и все, что сказали, уже сбывается и еще сбудется, как рано или поздно сбывается на Руси правда.
Знакомство с Михаилом Бегером происходило в такой последовательности: сначала ставропольские писатели принесли в редакцию его стихи, затем я позвонила ему в Черкесск, а потом приехал в Ставрополь и он сам. Уже через несколько минут нашего общения он сказал: «А можно перейти на «ты», ну не умею я иначе, понимаешь? Мы же Господу не говорим «вы», потому что предельно доверяем, вот я хочу, чтобы и с людьми так…». Уже скоро я поняла, что седовласый, обаятельный Михаил Бегер в своих словах и мыслях строг и честен, или, говоря иначе, похож на свои «предваряющие политику» стихи.
…От былого меня
да от прежнего –
Глыба боли средь
поля безбрежного,
Ветра хрип, безнадежно
простуженный,
День, печалью всерусской
завьюженный,
А по полю –
вконец озверелые
Черно-красные псы!
Черно-белые!
Доллар скалится
жутко и весело.
Интервенция духа.
Рецессия.
Эти строки написаны до того, как в мире признали наличие всеобъемлющего кризиса, но дело не в том, что поэт «что-то такое» действительно предсказал. Суть в другом. Улавливая витающее вокруг предощущение апокалипсиса (а для творческого человека подобное мировосприятие вполне естественно), он ищет некий, им самим сформулированный смысл. Ведь мы живем во времена, когда кое-кто утверждает, что все лучшее в русской литературе и поэзии уже написано, но что-то же заставляет одних писать, а других читать стихи?! Душа требует неустанного путешествия по России, и там, где такое поэтическое путешествие из географического превращается в историческое, мы начинаем искать «формулу спасения».
…Мы уйдем.
Забудут наши лица
Близкие, знакомые,
друзья.
Как же ты дала нам
оступиться,
За тебя с врагами
не схватиться,
Родина любимая моя?..
В стихах поэта множество подобных вопросов и признаний: судьба России для него больше, чем главная «поэтическая тема», это тема его личности, его душа и его боль.
…Я Родину безумно
так люблю.
Спроси, за что, -
пожалуй, не отвечу.
Я не смогу простой
обычной речью
Поведать то,
что сердцем пропою…
Если все неумолимые вопросы наших поэтов перевести с языка поэтического на прозаический язык нового столетия, мы лицом к лицу столкнемся с русской историей, которая, как вопрошающая тень отца Гамлета, никогда не отпускает нас. Почему, скажем, за один только прошедший век дважды рухнуло мощное государство? И что в таком случае может означать понятие Родины? Есть ли она действительно у нас? Почему люди живут с ощущением нового падения и новой катастрофы?
- На такие неумолимые вопросы, - ответил Михаил Леонидович, - надо искать такие же беспощадные ответы. Отчего дважды рухнули? Если отрешиться от всех привычных аргументов и посмотреть в самую суть, то ответ окажется не экономическим, не политическим, а… поэтическим. Страна как место проживания перестала быть Родиной. Вот причина! Для русских людей, так уж у нас сложилось, Родина – это не место процветания, а место спасения. Уходит это мистическое чувство, и нас покидает чувство Родины.
После красноречивой паузы мой собеседник продолжал:
- Начали воевать с прошлым, ломать его смысл, и все стало рушиться. Воюем с историей, но рвем по живому связь с вечным. Нужен преемственный исторический смысл, только он и восстановит Родину.
По мысли поэта, самое страшное – потерять идеал, свою «небесную Родину», «звездную Русь». Пока о ней помнят и ждут ее возвращения, у человека есть будущее и есть Родина. В стихотворном сборнике М. Бегера «Симфония на кончике пера» встречаются и другие подсказки – драгоценные «формулы спасения»:
…Сегодня: «Пушкин? –
и «хи-хи»
«Хи-хи» - позорное до боли.
Как бы невежд былых грехи
Сорняк возрос
на русском поле.
О, полно, Русь!
В себя вглядись
В руках Всевышних
ты фигура,
Пока сражается за жизнь
Тобой рожденная
культура…
Беседа с поэтом на фоне его стихов подходила к концу, но интерес к его личности, а следовательно, и вопросы ну никак не хотели уменьшаться: «Я горжусь, что родился я русским», - процитировала вслух я новую его строчку. «Как же так, - спросила я искреннего Михаила Бегера, - «Народный поэт Карачаево-Черкесии» с такой некарачаевской, нечеркесской и даже нерусской фамилией – интересно же?!» В ответ – открытая улыбка: «Да не волнуйся, пожалуйста, я и в самом деле русский, а фамилия, в некотором смысле, – загадка нашей семьи».
Как рассказывала внуку его бабушка Серафима Стаценко, «пришел хороший мужик и стал жить». Время было смутное: то красные лютуют, то белые, многие лишились и документов, и фамилий. А они народили трех сыновей (один из них - отец Михаила), жили в Черкесске, больше всего на свете любили русскую песню, на которой и вырос мальчик Миша, а вместе с ним – и его пожизненная любовь к поэзии Сергея Есенина. Кстати, народный поэт Карачаево-Черкесии Михаил Бегер, постоянный участник Лермонтовских чтений в Пятигорске, мечтает учредить в Черкесске ежегодный День поэзии, проводимый у памятника Есенину. Один такой поэтический сход ему с энтузиастами уже удалось провести. А вообще, признался Михаил, он все чаще чувствует себя одиноким в родном городе. Писательская организация большая, а русских писателей и поэтов мало, русских изданий нет, одна на всех русскоязычная газета…
Зато интересен другой факт: в свое время открыла поэта не кто иной, как наша «Ставропольская правда», именно на ее страницах 33 года назад впервые были опубликованы его стихи… А вообще-то, «по плану», мне все-таки хотелось спросить, что же он имел в виду, заявив «всему человечеству»: «Я последний поэт России!»? А потом встретилось вот это бегеровское стихотворение, и надобность в ответе, пожалуй, отпала:
Жизнь-бухгалтер
оценит убытки,
Каждый промах
возьмет на учет.
Приплюсует
к ошибкам ошибки,
И предъявит
неслыханный счет.
И ободранный ближним,
как липка,
Подпоясан нуждой
и тоской,
Я пойду по распутице
хлипкой,
Пепел дней
разгребая клюкой.
И по терниям
выйдя к отавам,
Помолясь на восход
и закат,
Я поведаю звездам
и травам
Все, чем был так
несметно богат.
30 января 2009 года

Ставропольцам рассказали об ограничениях на снятие наличных в банкоматах
На выставке в музее Невинномысска представили предметы исторического быта

Ставропольский педагог Николай Жуков отметил 75-летие и рассказал о работе, семье и книге

Вероника Тайдакова: Увеличение финансирования спортивной отрасли позволит решать вопросы на другом уровне

Уроженка Невинномысска завоевала золото всероссийских соревнований по фигурному катанию